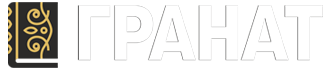Демократия
Демократия (греческий; буквально народовластие), политическое устройство, осуществляющее интересы народного большинства, в противоположность аристократии, при которой прочную защиту находят только интересы меньшинства. Демократией называют и самые массы, составляющие народное большинство, или группы, к ним примыкающие по своей идеологии; этимологически это не очень правильно, но освящено вековой практикой.
Демократия, как политическая форма, появилась в древней Греции; но греческое представление о демократии мало похоже на современное. Греческая демократия была, с современной точки зрения, демократией аристократической, потому что понятие о народе-властителе (демосе) было в Греции очень узкое: оно обнимало собой лишь политически-полноправную часть населения; огромная масса рабов совершенно не входила ни в теоретические, ни в практические конструкции, в которых дело шло о демократических идеалах. Да и кроме рабов были категории граждан, исключавшихся из представления о народе. Еще менее, конечно, можно говорить о демократии в применении к римским государственным порядкам, вопреки демократическим формам: вопреки кажущемуся уравнению в правах всех сословий, в римской республике всегда царил строгий аристократизм. И те демократические идеалы, из-за которых ведут борьбу народные массы и их идеологи в наше время, были незнакомы древности, и греческой, и римской, и прежде всего им незнакомо было наиболее основное из современных демократических требований: требование полного равенства.
Демократизация современного государства, процесс далеко еще не законченный в наши дни, началась на европейской почве одновременно с появлением первых признаков разложения феодального порядка. Силами, действовавшими в этом процессе, были, прежде всего, силы хозяйственной эволюции. Феодализм, как социальная система, был сломлен возрождением торговли и обусловленным ею расслоением подвластного общественного слоя. Купечество, выделившееся из серой вилланской массы, предъявляет демократическое требование равенства. Кое-где оно умеет добиться его осуществления, полнее всего в Италии; там купеческие городские республики подчиняют себе окрест живущих баронов и заставляют их приписываться, для обеспечения полных гражданских прав, в одну из городских корпораций. Идея равенства, провозглашенная купечеством, конечно, односторонняя: оно для себя хочет равенства с дворянством. Когда другие общественные группы обращаются к старому купеческому патрициату с тем же требованием, он предпочитает начать борьбу. Но влиятельные корпорации ремесленников (мастеров), так или иначе, заставляют купцов, за малыми исключениями, уступить. Их равенство тоже закрепляется формально. Тогда из низов встают новые группы: ремесленных рабочих (подмастерьев и учеников); они тоже требуют равенства и тоже обнаруживают готовность поддерживать свое требование оружием. Против них образуется коалиция верхнего слоя буржуазии, в котором купечество слилось уже с ремесленной аристократией; иногда к ним на помощь приходит королевская власть. В зависимости от распределения сил, победа достается то городской демократии, то аристократии. В один и тот же 1380 год во Флоренции городской пролетариат (чомпи) одержал победу над буржуазией, а во Франции восстание его в ряде городов (Руан, Реймс, Орлеан и проч.) было подавлено с помощью королевской власти. В конце концов, буржуазия нигде не сделала длительных уступок: в Италии приобретения пролетариата были тоже утрачены. Но идея равенства была провозглашена и доказала свою жизнеспособность.
Когда торговля и промышленность своим поступательным движением достаточно расшатали мощь феодального уклада, с требованием о равенстве, сначала робко, потом смелее, стали выступать самые низы вилланства, крепостные крестьяне. Для них равенство юридически, прежде всего, принимало форму упразднения крепостного права. Феодальному дворянству снова приходилось вести борьбу, и на этот раз оно напрягло все свои силы: дело шло о его существовании. В Италии и в Англии эту элементарнейшую юридическую форму равенства крестьянство все-таки вырвало из рук дворянства. Во Франции и Германии борьба кончилась неудачно. Но идея равенства и в этой сфере отношений была провозглашена и тоже доказала свою жизнеспособность.
Таким образом, идея неравенства, основной нерв феодального строя, была поколеблена еще в средние века. Правда, европейское общество вступило в новую историю при полном еще господстве неравенства в практической жизни. Но демократическая идеология на самом пороге новой истории дала две замечательных книги: «Град Солнца» Кампанеллы и «Утопию» Мора. Возможность их появления доказывает, что предыдущая работа не пропала даром.
Начиная с XVI века, демократические идеи и в теории, и на практике быстрее завоевывают почву. Реформационное движение сделало достоянием широких народных кругов идеи, пущенные в оборот Возрождением, и на почве реформации, пользуясь ее формулами, демократические требования были провозглашены еще более решительно. Анабаптисты и Мюнцер в Германии, революционное сектантство, левеллеры, диггеры, Уинстэнлн в Англии, Рабле во Франции — все они двигали вперед демократические идеи. Хозяйственная эволюция тем временем делала свое дело. Рост буржуазии продолжался безостановочно, и в XVIII веке она, наконец, начала брать верх над дворянством в социальной жизни. Только с этого момента можно говорить о практических успехах демократии. Борьбу за демократию вела буржуазия, и понятно, почему она ее вела. Даже там, где абсолютизм в XVIII веке не существовал, как в Англии, привилегии дворянства в различных сферах политической и социальной жизни продолжали держаться. В абсолютистских монархиях континента, тем более. И буржуазия, окрепшая в своей хозяйственной деятельности, выставляет требование равенства, потому что ей невыгодны привилегии, которыми она не пользуется. Крестьянство хотело того же и по тем же причинам. Пролетариат был слаб, жил с буржуазией в патриархальной дружбе и в общественных делах шел за нею следом. Постепенно, таким образом, все третье сословие объединилось на демократическом лозунге равенства.
Но равенство не осталось его единственным требованием. Третье сословие чувствовало свою силу, ощущало себя большинством и жаждало власти для того, чтобы устраивать свои дела без препятствий. Так назревали в общественных настроениях элементы доктрины народного суверенитета. Жан Жак Руссо формулировал в «Общественном договоре» как ее, так и учение о равенстве. У демократии было теперь свое евангелие. Французская революция провела его в жизнь.
Первое время, когда революционной буржуазии приходилось вести борьбу на жизнь и на смерть с абсолютизмом, демократические принципы пользовались прочным успехом. Практически неудобные составные части учения Руссо, доктрина о неотчуждаемости и неделимости суверенитета были отброшены уже у Мабли; когда учение утратило свою отвлеченную непримиримость, им можно было пользоваться и в законодательной работе. Декларация прав и конституция 1791 года не были, как принято было думать, сплошным перепевом «Общественного договора», но отдельные черты учения Руссо фигурируют и тут и там. Буржуазия еще твердо держалась за демократическую доктрину, потому что враг ее находился справа. Якобинская конституция 1793 года была наиболее ярким выражением революционного демократизма буржуазии. Когда она была принята, королевский абсолютизм и феодальные привилегии были уже упразднены, а враги у буржуазии поднимались с другой стороны, слева. Буржуазия стала пугаться, и тотчас обнаружилось, что в 1793 году во Франции не было еще элементов настоящей демократии, которые прочными корнями держались бы в социальной толще. Конституция 1793 года никогда не применялась, а в 1795 году была заменена новой, где демократические элементы были сведены к жалким остаткам. Пролетариат пытался спасти демократическую конституцию (прериальское восстание III года — мая 1795 г.), но был раздавлен. Директория, консульство и империя были царством буржуазии, реставрация попробовала вернуть феодальным классам утраченное ими влияние, но июльская революция восстановила значение буржуазии, которая и правит с тех пор во Франции, так же, как и в большинстве государств культурного мира. Борьба за демократию и демократические учреждения перешла в другие руки, в руки представителей трудящихся классов.
В истории демократии французская революция была поворотным моментом. То, из-за чего боролись Эллиот и Пим, бились «железнобокие» Кромвеля, что проповедовали Альджернон Сидней и Мильтон, за что терпел гонения мужественный Уилькс, — было достигнуто во Франции в короткое время, одним нечеловеческим напряжением сил. Явились необходимые практические предпосылки, без которых невозможен был бы дальнейший прогресс демократии. С тех пор под все усиливающимся натиском народных масс, главным образом их авангарда, рабочего пролетариата, демократические учреждения постепенно делают все новые и новые приобретения. И хотя в старых культурных государствах господство еще не перешло в руки народа, во всяком случае, интересы его с каждым днем находят все лучшую и лучшую защиту. Демократизация политических учреждений и прежде всего избирательного права сделала во многих странах (Англия, Франция, Италия, Швейцария, скандинавские и балканские страны) огромные успехи. В системе парламентаризма найден путь примирения народных масс с отвлеченно-классовой идеей государственности. В некоторых, преимущественно мелких, государствах (кантоны Швейцарии, штаты Северной Америки) введены институты непосредственного народоправства: референдум и инициатива. Наука следует за этим прогрессом и дает новые, более отвечающие сложившимся условиям жизни, обоснования принципа народного суверенитета. Эсмен считает народный суверенитет единственным, точным и адекватным юридическим объяснением того бесспорного социального факта, что повиновение не может быть получено иначе, как путем согласия общественного мнения. Ориу, анализируя понятие народного суверенитета, формулирует его, как «волю, вооруженную властью исполнения», и находит в нем три элемента: общую волю нации, командующую национальную волю, или правительственные власти, и публичную силу, предназначенную к обеспечению исполнения.
Медленнее, чем учреждения государственного права, демократизируются учреждения права частного, потому что они более непосредственно обеспечивают интересы господствующих классов. Работа теоретической мысли (Антон Менгер), пытавшейся демократизировать частное право, до сих пор остается безуспешной. Но есть нечто, еще более консервативное, еще менее податливое, чем юридические формы, что препятствует формальному переходу правительственной власти в руки представителей трудящихся классов. Это бытовые традиции. Они отличаются такой устойчивостью, что напор масс до сих пор был бессилен справиться с ними и в Европе, и в Америке.
Если взять Англию, конституция которой, «быть может, — самая демократическая в мире» (С. Лоу), то окажется, что в силу бытовых традиций активная правительственная власть, соединенная с министерскими портфелями, находится в руках небольшой группы профессиональных политиков, очень богатых и почти сплошь принадлежащих к аристократии. То же приходится сказать и относительно Франции, и относительно Италии, с той только разницей, что буржуазные элементы играют там ту роль, которая в Англии принадлежит аристократии. Но сила общественно-экономической эволюции, разумеется, берет свое; она сказывается в том, что эти профессиональные политики вынуждены править в духе интересов демократии.
Культурные идеалы современной демократии носят строго позитивистский характер. Мистика и метафизика слишком долго служили орудием порабощения народных масс, чтобы демократические круги могли относиться к ним дружелюбно. Враги положительной науки — в то же время наиболее ожесточенные враги демократии. Во главе их стоит международный иезуитизм, получающий энергичную поддержку со стороны социальных противников демократии (борьба с пролетариатом французского клерикального национализма, бельгийской клерикальной буржуазии, католической немецкой клерикальной буржуазии и проч.). Иногда иезуитизм одевается в демократическую личину (христианский социализм, католический социализм), и тогда он становится более опасным потому, что вносит разлад в народные массы. Только проникнувшись твердым позитивистским мировоззрением, демократия одержит окончательную победу. И наоборот, пока демократия не одержала окончательной победы, враги ее никогда не оставят в покое положительной науки: расшатывая ее, они отдаляют час своего поражения.
Наиболее последовательно и в политической жизни, и в общественном быте демократические принципы и учреждения укоренились в странах, не имеющих традиций, в молодых республиках Австралии. Там и принцип политического равенства, и принцип народного суверенитета осуществляются без ограничений, поскольку эти ограничения поддаются практическому устранению. И старая Европа, когда ее народные трибуны начинают говорить о последовательной демократии, то со страхом, то с надеждой, устремляет взоры сквозь морские туманы туда, где только и можно найти примеры правительства, состоящего из вчерашних рабочих, — в австралийские колонии Англии.
См. Perrens, « La D. en France au moyen age» (2 т., 1873); Каутский, Гуго, Бернштейн и др., «История социализма» (2 т., русский перевод 1906); М. М. Ковалевский, «Происхождение современной демократии». (5 т., несколько изданий); его же, «От прямого народоправства и т.д.». (3 т., 1906); А. Menger, «Das bürgerliche Recht und besitzlosen Volksklassen» (русский перевод 1904); его же, «Neue Staatslehre» (1905, русский перевод); Ostrogorsky, «La D. et les partis politiques» (2 т., 1904); Сидней Лоу, «Государственный строй Англии» (русский перевод 1908); Токвиль, «О демократии в Америке» (русский перевод 1897); Hasbach, «Die moderne D.» (1912); Hauriou, «La souverainité national» (1912); D. Koigen, «Die Kultur d. D.» (1912).
А. Дживелегов.
| Номер тома | 18 |
| Номер (-а) страницы | 208 |